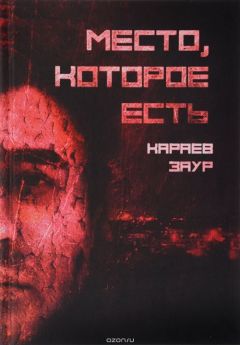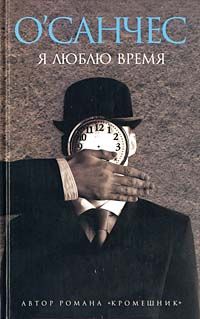Альберт Санчес Пиньоль - Золотые века [Рассказы]
Что может с нами произойти в тысячемиллионную долю секунды? Самые разные вещи. В одну тысячемиллионную долю секунды мы можем обнаружить, что влюбились. В одну тысячемиллионную долю секунды может закончиться затмение, длившееся тысячу лет, или начаться наводнение, которое затопит весь мир. Может быть зачат ребенок, или бог, или божественный младенец. В одну тысячемиллионную долю секунды клерк-аквалангист Энрик Аной, находясь в чреве кита, может понять высшую истину: чтобы считать себя великим человеком, нужно лишь верить в свое величие.
Но именно в этот миг, когда он ощущает необычайную свободу духа, Энрик Аной слышит неожиданный скрежет какого-то механизма, словно кто-то открывает дверь гаража. И вдруг, без предисловий, его тело начинает падать в пустоту.
Что может случиться в одну тысячемиллионную долю секунды? Ты можешь неожиданно прозреть и увидеть себя самого со стороны: ты падаешь и падаешь вниз внутри огромной капли воды. А внизу, прямо под тобой, — страшная картина лесного пожара, и сила земного притяжения неминуемо влечет тебя в этот адский огонь. А над тобой, там, в вышине, уходит в облака силуэт огромного гидросамолета противопожарной службы, который чувствует себя невесомым, после того как освободился от пятидесяти тонн воды, украденной ранее у моря.
О чем можно подумать и что вспомнить в одну тысячемиллионную долю секунды? Можно вспомнить все свое прошлое, особенно если эта тысячемиллионная доля секунды — последняя в твоей жизни. В последний миг, падая в огонь лесного пожара в своем абсурдном комбинезоне для подводного плавания, клерк-аквалангист приходит к заключению, что грань между славой и тщеславием очень тонка и соткана из дыма.
В ожидании генерала
Жизнь человека начинается с плача, а жизнь офицера — с молитвы. Я перекрестился, поднялся со скамьи и вышел из жалкой провинциальной церквушки. Между храмом Святого Павла из Назарета и железнодорожным вокзалом простирался огромный пустырь, на котором не было ничего, кроме жидкой грязи. Такова суть нашей империи: глина под ногами, свинцовые тучи над головой и бессильные колокола, раскачивающиеся между небом и землей. Помню, что мне очень не хотелось появиться в поезде в грязных сапогах. Конечно, можно было попробовать передвигаться прыжками, выбирая сухие островки, но тогда я рисковал стать посмешищем в глазах подчиненных: для солдат нет более уморительного зрелища, чем капитан, который вот-вот поскользнется. Но с другой стороны, как было сказано раньше, перспектива явиться к генералу в заляпанных глиной сапогах и, возможно, к тому же в забрызганном грязью мундире меня сильно удручала.
Однако мои опасения разрешились сами собой, когда я оказался в первом из трех вагонов поезда. Он целиком предназначался под служебные помещения: здесь размещались кухня, несколько маленьких кладовок, кроме того, здесь ехала обслуга самых разных профессий. Меня приятно поразил опрятный вид караула. Я вручил документы о своем назначении сержанту, в облике которого сочетались человеческие черты и мощь карпатских дубов. Мне предстояла служба в генеральном штабе, и я преодолел огромное расстояние, чтобы занять свое место в поезде, сев на него там, на крошечной станции, затерянной на просторах империи. Какой-то штатский секретарь предложил, что проводит меня к генералу. Однако сначала меня усадили на стул, чтобы чистильщик сапог привел в надлежащий порядок мою обувь. Одним словом, поведение этих людей скорее наводило на мысли об изощренной роскоши дворца, чем о строгой дисциплине гарнизона. Потом я прошел вдоль всего первого вагона в сопровождении необычайно любезного секретаря, выполнявшего функции мажордома. Во втором вагоне располагались маленький беспроводной телеграф и столовая для офицеров, скрытая за китайскими ширмами. Мы застали там официанта в смокинге, который накрывал на столы. Сопровождавший меня офицер обратился к нему на почти безупречном французском языке и предупредил, что с сегодняшнего дня на стол надо ставить еще один прибор. Третий вагон отводился под личные купе офицеров и конференц-зал. Интерьеры, оформленные в стиле восемнадцатого века, дышали гармонией, хотя и были перегружены различными предметами по причине некоего эстетического horror vacui[31]. Повторявшееся тут и там сочетание резного дерева и бархата создавало ощущение благоустроенности и уюта.
Генерал склонился над столом, на котором лежала большая карта. Его окружали четыре офицера, внимавшие речи стратега. Он говорил тихо, почти шепотом, его голос звучал мелодично. Казалось, этот человек не ведет совещание, а просто выражает свои мысли вслух. Совершенно случайно он поднял глаза и посмотрел на меня с таким смирением во взоре, которое, учитывая его высокое положение, показалось мне излишним. Генерал уже достиг библейского возраста и напоминал своей внешностью одного из офранцуженных масонов, обладающих поистине энциклопедическими познаниями. Если бы не мундир, его можно было бы принять за раввина или за какого-нибудь почтенного старца из приморских провинций. Снежно-белые, всегда искусно уложенные волосы и тщательно подстриженная борода делали его похожим на пожилого ангела, надевшего военную форму. Что же касается прочих деталей его облика, то мне бы хотелось упомянуть тонкие пальцы пианиста, которым придали особое изящество прожитые им годы, и чрезвычайно тонкие руки и ноги. Грудь такого человека не приняла бы никакой награды, кроме медали Pour le Mérite[32]: как всем прекрасно известно, ее вручил ему император за героические действия во время одной из битв, завершившейся нашим поражением. Хочется также упомянуть одну важную черту этого человека, заметную только при непосредственном общении, хотя описать ее достаточно сложно. Если определить это явление одним словом, то следовало бы говорить о замедленности, однако подобный термин не в состоянии передать всей гаммы чувств, которую выражали глаза генерала. Начнем с того, что расстояние между его бровями и глазами было невероятно большим, и уже это само по себе придавало его облику оттенок вечной наивности. Однако решающим моментом было движение век. Когда этот человек созерцал что-либо, внимал кому-либо или глубоко задумывался, его веки начинали медленно опускаться, подобно занавесу в оперном театре. Они падали все ниже и ниже, пока не прятали совсем глаз, которым служили защитой. Потухшие глаза генерала вызывали в его собеседниках неясную, но отчаянную тревогу. Никто не знал, почему это происходило, но стоило векам опуститься, как всем казалось, что страшная беда нависла над нашим миром. Наконец глаза на миг закрывались, словно генерал прислушивался к божественной музыке небесных сфер. Но именно в тот момент, когда всем присутствующим уже казалось, будто вождь навеки отверг этот мир, и все, охваченные животным ужасом, готовы были поддержать его за локоть или попросить помощи за пределами поезда, как раз в эту минуту веки старца начинали свое движение в обратном направлении: вверх, вверх и вверх. Он просыпался и всегда задавал один и тот же вопрос: „Где мы?“ Если бы речь шла о любом другом человеке столь почтенного возраста, такое поведение было бы расценено как проявление старческого маразма, но размещение генерального штаба внутри постоянно движущегося по всей стране поезда отчасти оправдывало его вопрос. Мы, офицеры, располагавшиеся в третьем вагоне, не могли, естественно, знать точных координат нашей позиции, а потому чаще всего ответ звучал так: „Мы направляемся на фронт, генерал“.
Однако все это мне еще только предстояло узнать. В день нашей первой встречи я встал по стойке „смирно“, но генерал посмотрел на меня снисходительным и полным нежности взглядом и представил мне четырех офицеров своего штаба. Первый из них был в чине майора; безупречный мундир выдавал в нем человека, которому не раз приходилось отдавать приказы расстрельной команде. Второй отличался исключительной худобой, впалые щеки казались гримасой удивления, застывшей на его лице с момента рождения. Стоило генералу заговорить, и лицо этого человека тут же озарялось, как это бывает со страстными приверженцами какой-либо идеи. Третий — старый полковник — представлял собой уменьшенную копию генерала. Несколько позже я заметил, что, когда генерал покидал комнату, этот человек затухал прямо на глазах, словно зеркало, на которое набегает черная тень, стоит нам убрать светильник, озарявший его раньше. Все трое были мне представлены в строгом соответствии с иерархией, принятой в армии. Когда наступила очередь четвертого, генерал произнес фамилию одного из самых знатных родов и добавил только одно замечание, проявив свойственную ему безграничную тактичность:
— Будьте снисходительны к этому человеку. Стук колес лишает сил даже самых отважных вояк.